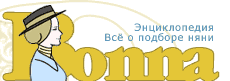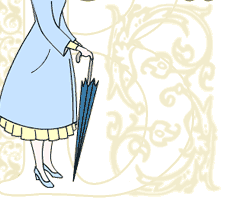Следующая!
Когда я была маленькой, из большого и очень красивого города Ленинграда мы переехали в Сибирь, в город Омск, куда моих родителей отправили по распределению после окончания учебы.
Мой папа — врач, но не простой, а судебный. Это значит, что от него зависит судьба того, кто сидит на скамье подсудимых. Все доказательства начинаются с экспертизы. Так что на происшествиях, когда кого-то грабят, убивают, избивают, обманывают, главный человек — судебно-медицинский эксперт, то есть мой папа. А потому его никогда не было дома. Даже ночью могли позвонить, разбудив весь дом, и скомандовать: "Доктор, на выезд!" И через пять минут мы с мамой в ночных рубашках смотрим в окно, как папа садится в милицейскую машину, которая сердито пыхтит у подъезда.
Моя мама — детский врач. Она с утра до вечера работала в инфекционной больнице, по вечерам преподавала в училище, учила медсестер, а по ночам дежурила в своем отделении. Так что ее тоже никогда не было дома.
А я, по идее, должна была ходить в детский сад, но из-за того, что все время болела, сидела дома. С кем? Вот тут-то и начинается самое интересное.
Конечно, нужна была няня. А кто в далеком сибирском городе хотел возиться с чужим ребенком? Только тот, у кого было безвыходное положение, то есть неcчастные девчонки без документов, сбежавшие из колхозов, ссыльные, которых в Омске было видимо-невидимо, татары, украинцы-бендеровцы, немцы и старушки, которым деваться некуда. Никаких, даже убогих, французов, как у Евгения Онегина, в нашем городе никто никогда не видел. Так что выбирать было не из чего. Объявлений в газету, типа "Требуется няня...", в те годы никто не давал, поэтому искали по "цыганской почте": кто-то где-то что-то слышал, кого-то знал, кому-то передал, тот передавал дальше.
Поскольку папа работал почти в милиции, на кафедре судебно-медицинской экспертизы при Омском медицинском институте, единственной и неповторимой во всем городе и области, то у нас был блат. Папа мог помочь с получением паспорта. Поэтому из всех окрестных деревень к нам выстраивалась очередь из молодых девиц с напудренными носами и одинаковым удушливым цветочно-сладким запахом. Все они хотели паспорт и замуж. Без меня они не могли получить ни то, ни другое. Поэтому они ненавидели меня, а я — их.
К счастью, в Омске гарнизонов, военных училищ, спецобъектов и тому подобного хватало. Месяц-полтора уходил на то, чтобы с папиной помощью очередная няня могла получить паспорт. За это время она успевала
Папе надоело работать "паспортным столом", и на семейном совете было решено рискнуть и взять кого-то из ссыльных.
Первой и самой удачной была татарка Люция. Ее брата звали Рево. Все вместе — Рево-люция. Родители Рево и Люции были верны ленинским идеалам, но им это не помогло, закончили они в Сибири. Но детей воспитали, как надо. Рево пошел работать в милицию и сам привел сестру к нам в дом. Люция успевала все делать по дому, следить за мной и учиться у мамы в медучилище.
У меня с ней были очень хорошие отношения. Вместо того чтобы разучивать нудные гаммы, я ставила на подставку для нот любимую книгу, читала и в то же время блямкала на пианино двумя руками неизвестно что. Люции я объясняла, что разучиваю татарскую симфонию. Она меня за это очень уважала и вечером докладывала родителям, что я добросовестно 2 часа занималась музыкой.
Мой папа Люции нравился. Она даже призналась маме, что мой папа — это ее мечта: сам еврей, а лицом — чистый татарин. Что может быть лучше для семейной жизни? А я похожа на папу. Поэтому когда мама заходила в парк и спрашивала: "Вы не видели няню с девочкой? Они тут гуляют, а я — мама девочки, их ищу", сидящие на лавочках старушки отвечали: "Нет, няню с девочкой не видели, только татарка с татарчонком гуляли, во-о-н туда пошли". И мама меня с Люцией сразу находила.
Все было хорошо, пока за Люцией не прислали жениха-татарина. Слово родителей — закон. Люция, рыдая, бросила нас, учебу, город и уехала обратно в деревню за мужем... Следующая!
После Люции к нам пришла Нюся. Ее нашла мама на рынке, где Нюся торговала картошкой. Паспорта у нее, конечно, не было. Папа наотрез отказался Нюсе помогать, но мама умоляла его весь вечер, и я слышала, как ночью она даже плакала и все время повторяла: "Безвыходное положение, просто безвыходное!". Папа, в конце концов, согласился, предупредив, что это уж точно в последний раз.
Нюся была маленькая, кругленькая, как ватрушка, и такая же пухлая и сдобная. От нее пахло хлебом, молоком и покоем. Она заплетала мне косички и завязывала бантики в точности, как себе, и мы с ней были, как двойняшки! Я была в восторге. Папа почему-то недовольно морщился и говорил маме: "Ты что, не можешь ребенка нормально причесать? Выглядит, как деревенщина!" А мама нервно шептала в ответ: "Тише, оставь в покое, неудобно!"
Я любила целовать Нюсины тугие круглые щечки, прижималась к ее необъятной груди, и мне было очень уютно.
И вдруг произошло что-то необъяснимо ужасное.
Утром родители и соседи, как всегда, ушли на работу. Я сидела за письменным столом и рисовала. Нюся разложила на диване какие-то тряпочки и что-то шила. По радио передавали "Пионерскую зорьку". Вдруг передача на полуслове оборвалась, и диктор торжественным голосом объявил, что умер товарищ Сталин. Нюся грохнулась на пол, завыла страшным голосом, порвала на себе платье и начала биться головой об пол. Волосы ее растрепались, лицо она себе расцарапала. Нюся, захлебываясь от слез, кричала во весь голос, что она без товарища Сталина больше не хочет жить.
Я забралась под письменный стол, забилась в угол и, чтобы меня совсем не было видно, задвинула поглубже свой стул. Нюся каталась по полу и причитала. Мне было так страшно, что я даже не могла плакать, закрыла глаза, зажала руками уши и так сидела, ни жива, ни мертва от ужаса.
Когда я открыла глаза, в нашей комнате в пальто, в шляпке и в ботах стояла соседка Таисия Ивановна, которая из ведра поливала водой лежащую на полу орущую Нюсю. Нюся затихла, потом вскочила, схватила тряпку и начала вытирать пол.
Я просидела под столом до самого вечера, пока с работы не пришли мама и папа. Только увидев их, я выскочила и с диким ревом вцепилась в маму мертвой хваткой. Я ревела так, что у меня поднялась температура. На другой день мама на работу не пошла. Нюсю я к себе не подпускала, ревела белугой и цеплялась за маму обеими руками. Два дня я валялась в истерике. На третий день Нюся уехала к себе в деревню... Следующая!
Новую няню долго не могли найти. Родители мучились. Была весна. Мама принимала экзамены в государственной приемной комиccии в училище. Папа пропадал двое суток в области, на происшествии, откуда, не заезжая домой, помчался в институт, на работу. Поэтому, когда утром позвонили в дверь и молодая женщина робко спросила: "Здесь няня требуется?", мама сунула ей меня и, на ходу надевая пальто, убежала принимать экзамены.
Через два часа соседи, благо мы жили в коммунальной квартире, по телефону нашли маму и сообщили ей, что у новой няни начались роды, и они не знают, что им делать. Мама в панике перезвонила отцу и, не вдаваясь в подробности, выпалила: "Леня, у меня экзамены, а у нас наша нянька рожает!" На что папа, со свойственным ему чувством юмора, ответил: "Дорогая, какие ко мне претензии? Я ведь еще даже не был дома!"... Потом весь папин мединститут потешался: "Слышали новость? У Свердлова домработница родила!" Следующая!
Новую няню украинку из Бендер Марию Степановну, жену бендеровского бандита, сидевшего в тюрьме "во глубине сибирских руд", папа нашел в какой-то деревне, куда выезжал на очередное убийство. Мария Степановна покорила всех — и родителей, и соседей, которым угодить было очень непросто. Высокая, смуглая, с роскошной цвета воронова крыла косой вокруг головы, казалось, у нее в руках все горит. Наша комната заблестела. Сверкала посуда, крахмально топорщились занавески, откуда-то взялись кружевные салфетки, постельное белье вкусно хрустело и пахло ветром и солнцем, обедали только на белоснежной скатерти... Так вкусно мы не ели никогда в жизни. Папу Мария Степановна называла "пан", а маму "пани". Нам откровенно завидовали все. Пока в один прекрасный день...
Соседи маме не дозвонились, но догадались позвонить в милицию, и папу нашли прямо на происшествии. Я только помню, как вдруг открылась дверь и в комнату ворвались папа и два милиционера. По-моему, у нас дома все было хорошо. Я сидела за своим детским столиком, на котором стоял мой любимый зелененький пластмассовый кукольный чайный сервиз, а Мария Степановна сидела на полу и наливала мне во все чашечки, чайничек, молочник и сахарницу сладкую вкусную красную водичку, я ее пила, и мы с ней пели веселые песни.
Мария Степановна с граненым стаканом в руке встретила папу и милиционеров, как родных:
"О, Пан Лазарь пришел! А мы с Анечкой гуляемо! Вы не подумайте чего, пан, я себе — беленькой, а Анечке только красненького наливала!"
Почему-то папа не радовался. А ведь было так весело! Меня сразу же отправили спать, а Марию Степановну я больше не видела. Панская жизнь закончилась, мы снова обедали, как все, на клеенке... Следующая!
Немке Гатлибовне, она сама просила называть ее только по отчеству, на вид было лет сто. Маленькая, сухонькая, с пегими волосами, собранными на макушке в старинный пучок, как на картинке в книжке со сказками Братьев Гримм, Гатлибовна была похожа на деревянный сучок с глазками. Она носила длинный передник, все время что-то терла и скребла, обожала моих родителей, низко им кланялась, пыталась целовать им руки, а меня, когда мы оставались одни, шпыняла, проклинала и сверлила своими деревянными глазками.
Я долго терпела. Потом однажды за обедом встала, молча подошла к Гатлибовне и на глазах у всех вонзила вилку в ее сухонькую коричневую ручку... Отец, как обычно, когда я плохо себя вела, изо всех сил дал мне по физиономии, сломал мои очки, из носа у меня хлынула кровь... Мама металась между нами, не зная за что раньше хвататься — за мой разбитый нос или за окровавленную руку Гатлибовны. В общем, пообедали...
Это теперь все грамотные — знают, что детей бить нельзя, они от этого звереют и становятся только хуже, что с ними надо беседовать, пытаться понять, почему они себя ведут не так, как надо, и прочее. А тогда, в начале
Короче, за Гатлибовну меня сначала побили, потом все-таки со мной поговорили и, к моей великой радости, решили, что Гатлибовна нам не подходит... Следующая!
Я выросла, целыми днями пропадала то в обычной школе, то в музыкальной, и последнюю няню взяли уже не мне, а моему годовалому младшему брату. Корниловна смотрела исподлобья, вечно хмурая, ростом — даже выше папы, возвышалась над всеми нами, как пожарная каланча. Она носила длинную пышную темную юбку, сверху темную блузу с пышными рукавами, на голове — надвинутый на лоб и завязанный сзади большим узлом темный платок.
Однажды папа пришел с работы и сразу заглянул в кроватку, где играл мой брат. "Привет, сыночек, как дела? Папа пришел!" — с ласковой улыбкой ворковал папа. Первые слова в своей жизни, даже не слова, а целое предложение (вот какой умный мальчик!), которое произнес мой брат, звучало так: "Щас дам в молду — будешь знать!"
"Это кто же тебе так говорит?" — от неожиданности папа даже не сообразил, с кем он беседует.
"Кониловна", — как ни в чем не бывало ответил малыш.
Вот так мой брат заговорил, а Корниловна была тут же уволена.
Потом мы уехали обратно в Ленинград, нянек больше не нанимали, брата "пасла" бабушка, мамина мама.
Я совсем выросла, сама стала мамой и, оставшись без мужа с годовалой дочкой на руках, поняла, что выхода у меня нет, надо искать няню. Дала объявление в газету. Мама пыталась решить эту проблему по-своему, вызвалась сама проводить с желающими работать первое интервью и явное предпочтение отдавала важным старушкам, которые вырастили уже не одно поколение и своих, и чужих детей. Я представила себе, как все они будут меня поучать и ябедничать маме о каждом моем шаге, проявила характер и категорически отказалась от маминых протеже. Мама обиделась, сказав напоследок зловещее: "Что ж, попробуй сама. Ты — мать, тебе решать". И я стала выбирать.
Раечка, почти моя ровесница, пришла по объявлению вместе со своей мамой. Они приехали издалека. Раечка должна была ходить в Ленинграде на подготовительные курсы в институт, а ee мама собиралась вернуться домой. Мы сразу друг другу понравились. Раечкина мама уехала, как она сама сказала, с легким сердцем, оставив дочку в хороших руках.
А мы с Раечкой прожили вместе 3 года. Когда моя малышка возвращалась с прогулки, она говорила мне: "Мамочка, сладенькая ты моя, какая ты умница, заинька, что так хорошо все убрала, пока я с Раечкой гуляла". Чувствуете разницу? Ни в какой институт Раечка не поступила, хотя курсы добросовестно посещала. Моя дочка пошла в детский сад. Раечку мама устроила работать к себе в больницу, там давали общежитие и лимитную прописку. В конце концов, Раечка вышла замуж, стала ленинградкой, родила дочку. Я уехалa в Америку. Мы до сих пор переписываемся и раз в полгода, вот уже 20 лет, я отправляю Раечке посылку величиной с коробку от телевизора. "Кому это ты все собираешь?" — спрашивают меня новые подружки. "Сестре в Ленинград", — отвечаю я. И так бывает.
В Америке я живу в Нью-Йорке, в "русском" районе и "русском" доме, то есть большинство жильцов приехали из бывшего Советского Союза. У всех дети, внуки и няни. Няни у нас в доме двух видов: белые, наши, из России или Украины, и черные, местные, настоящие американки. Казалось бы, между ними — пропасть. Ничего подобного. Ведут они себя абсолютно одинаково.
Умные родители, насмотревшись по телевизору фильмов о том, как няньки в отсутствие родителей мордуют младенцев почем зря, всюду по квартире замуровали видеокамеры. А еще более умные няни одевают ребенка, как на прогулку, сажают или кладут его в коляску и честно уходят из квартиры, якобы гулять.
Внизу, в холле парaдногo, черные няньки собираются кружком вокруг себеподобного охранника, зубоскалят, кокетничая, и оглушительно ржут, разевая белозубый рот от уха до уха.
Белые няньки собираются кружком в углу, шепчутся, в основном о том, кому сколько платят, и учат друг друга, как раскрутить хозяев, чтобы платили еще больше.
Несчастные, бледные, сомлевшие дети вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, парятся и спят в своих колясках.
Ну, надеюсь, вы уже поняли, что характер у меня не сахарный. Я выхожу из лифта, вижу всю эту замечательную картину и рявкаю по-русски и по-английски: "Это вы так с детьми гуляете? Марш на улицу! Сию минуту все вон отсюда! Еще раз увижу — все родителям расскажу, учтите, я всех вас запомнила и детей ваших тоже!" В нашем холле потолки высоченные, эхо раздается, как в горах. Мой рык звучит устрашающе громко. Няньки, как тараканы в кухне среди ночи, когда неожиданно зажигается свет, разбегаются в разные стороны, благо в нашем холле шесть или семь выходов на улицу. Я, довольная, иду дальше...
Когда родилась моя внучка, я сразу сказала дочке — никаких нянь! Через мой труп! Теперь мы все по очереди вот уже четыре года передаем девочку из одних рук в другие — мама, папа, одна бабушка, другая бабушка, дедушка — всем хватает.
И когда моя внучка мне говорит: "Бабушка Аня, я так тебя люблю! Не отдавай меня никому, я хочу жить с тобой всегда-всегда!" — я счастлива.
Anna Levina[Личный опыт]